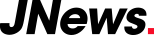Тридцать лет прожили в браке Светловы, а на тридцать первый послал им Бог ребёнка. Три десятилетия тихого, вымеренного бытия, сшитые из привычек, молчаливого понимания и той особой, выстраданной нежности, что приходит на смену страсти. Они уже смирились с тем, что их союз — это островок для двоих, отгороженный от будущего, в котором нет детского смеха. А на тридцать первый год послал им Бог дитя. Вере было пятьдесят четыре. Врачи крутили пальцем у виска, подруги, заедая зависть пирогами, качали головами: «Сама на мучения себя обрекаешь, старая уже, не вытянешь». Но Вера лишь молча клала руку на подрастающий живот, чувствуя под ладонью таинственное движение иной жизни. Она не пошла на аборт. Она шла по весенним улицам, переваливаясь с боку на бок, как корабль, нагруженный самым драгоценным грузом — надеждой. И она вытянула. Родилась у них с Артёмом доченька, хрупкая, розовая, с глазами-миндалинами, распахнутыми в незнакомый мир. Назвали Аришкой. Но очень скоро радостное возбуждение сменилось холодной, липкой тревогой. Малышка была слишком тихой, слишком вялой.
Она с трудом брала грудь, а её дыхание порой сбивалось на хриплый, прерывистый свист. Районный врач, избегая их взгляда, произнес приговор: «Синдром Дауна». Мир сузился до размеров казенного кабинета, залитого люминесцентным светом, и этого слова, тяжелого, как надгробная плита. Молча ехали потрясённые родители обратно, в свою умирающую деревеньку. Врач, стараясь быть доброй, предложила похлопотать о месте в спецучреждении. «Там деток развивают, учат…» «А после? Куда?» — глухо спросил Артём, вжимаясь в спинку сиденья. — «В психушку?» «В дом престарелых. Или в психоневрологический интернат», — поправила она, и в этой поправке был весь леденящий душу цинизм системы. Дорога домой казалась бесконечной. Первым заговорил Артём, и голос его, обычно такой твёрдый, сейчас дрожал, срывался: — Не может быть… Не для того она родилась, чтобы тлеть в четырех стенах богадельни, среди чужих старух и потерянных разумом людей. Не может. Вера выдохнула, будто ждала этих слов. Слёзы брызнули из её глаз, но это были слёзы облегчения. — Я тоже так думаю. Сами. Сами вырастим. Сами и полюбим. И ни разу за все последующие годы Светловы не пожалели о своём решении. Аришка росла. Её мир был мал, но невероятно ярок.
Она радовалась простым вещам так искренне, так всепоглощающе, что взрослые невольно заражались её восторгом. Первым лучам солнца, пробивавшимся в окно. Воробьям, купающимся в пыли. У неё был свой крошечный огородик — несколько грядок, где она вместе с мамой выращивала неприхотливый горох и свёклу. С каждым годом у неё получалось всё лучше. А ещё она обожала курочек. Не просто кормила их, а защищала, как верный страж, гоняя прочь соседских котов, занесшую лапу на её пернатое царство. Она разговаривала с ними на своем, только ей понятном языке, и те, казалось, понимали её без слов. Летом деревня ненадолго оживала. Из города привозили внуков, чтобы те набирались сил на деревенских харчах и дышали воздухом, пахнущим свежескошенной травой и дымком. Среди таких был и Пашка Воронов, городской сорвиголова, заводила и отчаянная голова. Его, как водится, побаивались и уважали одновременно. Но под личиной хулигана в Пашке билось благородное сердце. Он ломал рогатки, из которых другие пацаны стреляли по птицам, заступался за слабых. Однажды он увидел, как местные мальчишки, перелез через забор, дразнят Аришку, передразнивая её и кидаясь шишками.
Девочка стояла, прижавшись к стене сарая, и тихо плакала, не понимая, за что её обижают. Ярость, вспыхнувшая в Пашке, была стремительной и страшной. Он разогнал обидчиков, а потом, подойдя к Аришке, аккуратно вытер её запачканные землёй щёки и сказал: «Не бойся. Больше никто тебя не тронет». С того дня он стал её ангелом-хранителем. Именно благодаря ему Светловы, преодолевая страх, стали отпускать дочку со двора поиграть. Пашка дал слово, и его слово было железным. Но деревня неумолимо старела и умирала. Сначала закрыли школу, потом детский сад. Автобус до райцентра, ходивший когда-то каждые полтора часа, стал курсировать дважды в день, а потом и вовсе зачах. Последним гвоздем в крышку грода стал закрывшийся магазин. Раз в неделю приезжала лавка с тощим набором товаров. Жизнь теплилась лишь в огородах да в трёх дворах, где ещё держали птицу и коз. Умирали старики, их дома, словно черепа, зияли пустыми глазницами окон и slowly рушились, поглощаемые крапивой и бурьяном. Бабушка Пашки Воронова серьёзно заболела, и её забрали в город. Дом заколотили. Кузнец Хаким, добрый умелец, перебравшийся когда-то из Шымкента, с семьёй подался туда, где его руки ещё были нужны. Остались единицы. Светловы — потому что ехать им было некуда. Жили на пенсию Артёма и на те крохи, что удавалось выручить Вере за её «фирменный» хлеб.
Раз в неделю она растапливала русскую печь и по старинному рецепту, доставшемуся от прабабки, пекла душистые, тёплые караваи. За «светловским» хлебом специально приезжали из соседних сёл — он был невероятно вкусен и не черствел неделями, если завернуть его в льняное полотенце. Аришку к печи не подпускали. Боялись…
Новая весна